43. Лекция о фильме "Иваново детство" Андрея Тарковского
Первая полнометражная работа Андрея Тарковского, получившая главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» и надолго укоренившаяся в истории советского кино как одна из наиболее полемичных лент о Великой Отечественной войне благодаря своему сложносоставному новаторскому киноязыку и противоречивому портрету главного героя. Фильм является хронологически второй экранизацией военной повести Владимира Богомолова «Иван», ранее снятой Эдуардом Абаловым, но не прошедшей редакционную коллегию «Мосфильма». «Иваново детство» принято рассматривать в контексте многострадальных лент «Мосфильма», у себя на родине долго имевших статус «персоны нон грата», но вопреки этому возымевших широкий резонанс в странах Европы (подобно всем последующим лентам А. Тарковского). Жан-Поль Сартр, ведущий представитель французской волны экзистенциализма, писатель и драматург, в своем знаменитом письме-эссе главному редактору итальянской газеты «Унита» Марио Аликате писал об образе главного героя следующее: «Это существо не в силах порвать нити, связывающие его с войной и смертью; ему отныне необходим этот зловещий окружающий мир; освобождающееся от страха в разгар битвы в тылу, оно будет изглодано тревогой. Дело в том, что для этого ребенка весь мир — галлюцинация, а сам он, чудовище и мученик, — галлюцинация для других, окружающих его в этом мире» . Используя главного героя Ивана, мальчика, потерявшего мать и всякий этический ориентир в мясорубке войны, в качестве универсальной жертвы дестабилизированной ценностной картины мира XX века, Тарковский расширяет контекст военной драмы до апокалиптических масштабов. Детская травма Ивана замещает объективную реальность непрерывным потоком кошмарных сновидений, построенных на сообщении различных элементов внутрикадрового пространства, каждый из которых является частью разрушенного детства мальчика. Прием совмещения отрезков ночных кошмаров и реальной событийности создавал такую монтажную последовательность кадров, которая по своей форме напоминала галлюцинацию, вызванную последствиями военной трагедии. Представление субъективных переживаний Ивана разворачивается не только посредством обыкновенных деталей предметного мира, но и на материале художественных памятников, таких как альбом с гравюрой Альбрехта Дюрера «Всадники апокалипсиса», который мальчик листает в подвале. Отзываясь гулким эхом в замкнутом пространстве, воспоминания Ивана расширяются до масштабов универсальной трагедии всего человечества, становясь художественным обобщением, в котором воспоминание и сновидение существуют неразрывно друг от друга, теряясь в собственных дефинициях. Концептуальный подход Тарковского к формам повествования через предметный мир положил начало становлению уникального режиссерского киноязыка, в первую очередь полагающегося на выразительные средства самой реальности. Основными визуальными материями для режиссера стали такие первоэлементы нашего мира, как вода, земля, огонь и воздух. Сквозь эти фундаментальные стихии автор проецировал модель глубинных переживаний своих героев, которые за счет преображения в изменчивых и неустойчивых формах воды и огня приобретали особый сакральный статус, превращаясь в образ. В «Ивановом детстве» таковым является образ матери, расплывающийся в глубине темного колодца, из которого маленький Иван пытался выловить загадочную звезду. Вся сюжетная линия главного героя строится вокруг самого теплого из воспоминаний — грезы светлого струящегося детства. Часто вода и ее различные виды в фильме рассматривалась многими исследователями как проводник в мир искалеченного подсознания, затерявшегося между будничным кошмаром и притягивающим своей безопасностью и комфортом прошлым. На протяжении всего действия мы видим, как над Иваном все сильнее сгущается зловещий рок, который неизбежно приведет его к гибели. Финал режиссерской монтажной версии картины венчал ужасающий своей неприкрытой откровенностью кадр с катящейся головой Ивана, казненного нацистами. Но редакцией «Мосфильма» было принято решение изъять сцену из окончательного монтажа, заменив ее емкой фигурой умолчания — цепочкой кадров, состоящей из проволочной петли, тюремного окошка и служебных фотокарточек Ивана, что должно было наводить зрителя на мысль об очевидной трагической развязке. В итоге заключительной сценой стал пробег Ивана по речному берегу, залитому солнцем. В финале мы видим сгоревшее дерево, символизирующее испепеленную судьбу мальчика, и девочку, обогнав которую, Иван постепенно устремляется в темноту. Открытый финал закрепится за Тарковским как неотъемлемый режиссерский и драматургический прием, проходящий сквозной линией через все его фильмы. «Иваново детство» стало первой серьезной актерской работой для 14-летнего Николая Бурляева, позже, в 1966 году, сыгравшего юного архитектора Бориску в финальной новелле «Колокол» из фильма «Андрей Рублев». Так же в крохотном эпизоде у березовой рощи можно заметить Андрея Кончаловского в роли рядового солдата.



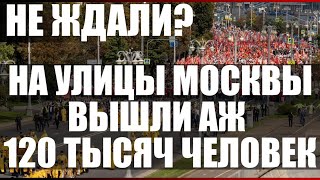



![видео: ИВАНОВО ДЕТСТВО [Обзор и анализ] картинка: ИВАНОВО ДЕТСТВО [Обзор и анализ]](https://i.ytimg.com/vi/VpcVeMC3Wbc/mqdefault.jpg)


